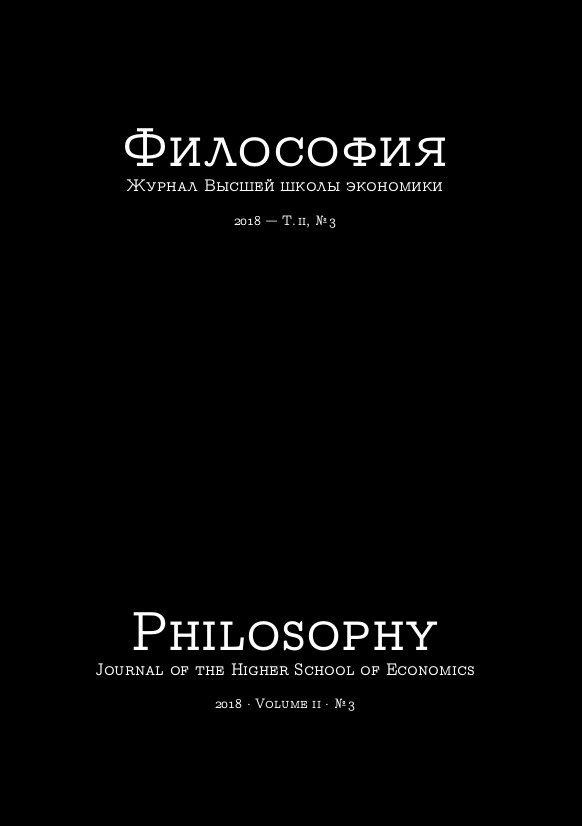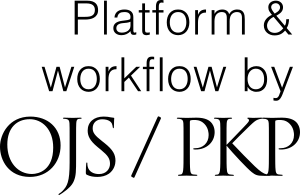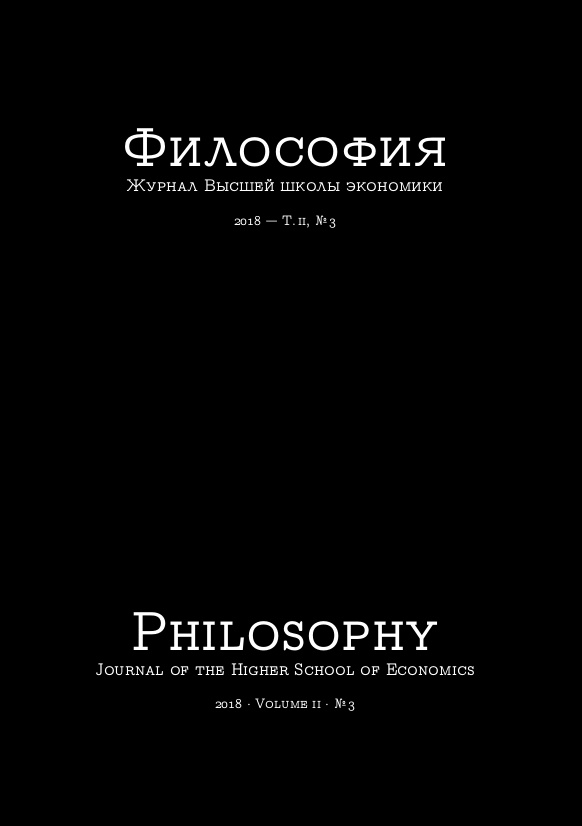
Западная история политических понятий и языков включает в себя несколько школ, сложившихся в национальных научных сообществах во второй половине ХХ века: это дискурс-анализ М. Фуко, Begriffsgeschichte Р. Козеллека и Кембриджская школа Кв. Скиннера и Дж. Покока. К концу столетия влияние исторических исследований и зрелость методологической рефлексии трех направлений создали условия для более глобального академического диалога — европейского и трансатлантического. Российская история политических языков еще моложе: она формируется в течение последних тридцати лет, испытывая на себе влияние более зрелых (транс)национальных школ и находясь в активном поиске адекватного научного языка. В настоящем номере представлены исследования по русской и европейской истории понятий и теоретические статьи, написанные в диалоге между несколькими направлениями.
Природная междисциплинарность истории политических языков делает ее академическим полем, общим для историков, филологов, философов, юристов, политических философов и политологов. Такое «водяное перемирие» не вызвано бедствием или институциональным насилием, но возникает в силу подлинного интереса представителей разных общественных и гуманитарных дисциплин к одному и тому же корпусу источников. Общность источников здесь, конечно, не обозначает общности методологии. Скорее, мы можем выделить несколько сквозных тем и ходов, которые вписывают современную историю политических понятий и языков в гораздо более долгую традицию гуманитарного знания.
Привлекательность и актуальность истории понятий связана с природой дискурсивной политической коммуникации определенного типа — опосредованной тканью философских и полемических текстов, решениями политиков и характером принимаемых законов. Политические сообщества, допускавшие свободу обсуждения управленческих сюжетов, оказывались вовлечены в конфликтное дебатирование актуальных вопросов и в еще более сложную дискуссию «второго уровня». Речь идет о метадискуссии, т. е. о принципах и нормах, к которым можно легитимно апеллировать в политической полемике по конкретным вопросам текущей повестки дня. При этом степень рефлексивности и сложности обращения к общим началам оказывалась порой чрезвычайно высокой. История политических языков указывает на принципиальное значение живой письменной традиции (и ее изучения) как долгосрочного фактора, во многом определяющего характер и ход политических дебатов.
Канон общезначимых политических текстов меняется, но часть классических сочинений и сам принцип формирования корпуса сохраняются. Они интерпретируются каждым поколением политиков, юристов, историков и философов. Историки склонны классифицировать традицию как непрерывную эволюцию (Англия) или последовательность политических дискурсов, сформированных в рамках двух (Германия) или даже нескольких (Франция) радикально отличных друг от друга эпох. При этом в обоих случаях традиция не остается равной самой себе: она изменяется и эволюционирует под воздействием внутренних и внешних факторов, речевых жестов отдельных авторов или групп интересов, социальных или эпистемических сдвигов.
Изменения значений ключевых понятий и идиом являются следствием этого процесса. Однако большинство действующих участников истории не представляют себе масштаба и качества перемен и продолжают обращаться к обновленному корпусу текстов прошлого как к хорошо понятному источнику легитимных аргументов, норм и образцов. Языковой разрыв с прошлым осмысляется тремя ведущими школами истории политического дискурса как центральная тема и проблема. Историческое сознание, сформированное языком и опытом, оказывается еще одной центральной темой истории понятий.
Наслоение, изменение, перевод, очищение, смешение, восстановление и забывание значений как будто всем знакомых понятий в текстах прошлого и настоящего составляет главный raison d’être истории политических языков. Усилие историка по реконструкции забытых значений и контекстов нацелено на выявление дистанции между языками прошлого и настоящего. В случае успеха историк реанимирует язык прежнего канона и делает утраченный ранее репертуар значений доступным образованной публике. На следующем шаге политический философ, юрист и политик могут по-своему использовать старый/новый язык в современной конфигурации борьбы за власть и институты. В то же время историк указывает на ограниченность современного нам политического словаря: на скрытые от пользователей нормативные кодировки и перекодировки значений каждого из ключевых политических понятий большой традиции. В той мере, в какой политические и социальные институты поддерживаются публичными аргументами, принципами политической философии и письменными законами, а не только неотрефлексированной практикой и организованным насилием, критическая работа с историей политического языка оказывается полезной и современной.
Исследование Вл. Коршакова помогает увидеть, что знакомое нам сегодня противопоставление понятий свободы и воли не было характерным для политического языка Древней Руси. Более того, «воля» была более важным юридическим и политическим термином, характеризующим самостоятельность человека и его позитивную способность к действию. М. Пономарева реконструирует контекст и значение понятия respublica в средневековой французской политике. Предмет ее рефлексии— версии и переводы с латыни на среднефранцузский язык трактата «Спор между священником и рыцарем». С. Руис Санхуан обращается к более поздней либеральной традиции, по-новому интерпретируя аргументы Джона Милля в его классическом эссе «О свободе». В статье о «Размышлении о национальности» С. Н. Булгакова А. Тесля рассматривает этот текст в контексте полемики между охранителями, либералами и социалистами в 1909–1910 гг. В заключительной статье рубрики «Исследования» Т. Атнашев и М. Велижев описывают методологию, способную лечь в основу истории политических языков в России.
Рубрика «Переводы» открывается классической статьей Дж. А. Г. Покока «Бёрк и древняя конституция». Историк политических языков показывает, как юридическая мысль и прецедентная судебная практика в Англии раннего Нового времени сформировали одну из наиболее влиятельных линий политической философии этой страны — философию традиционализма, не отсылавшую к античным образцам. Во второй статье блока известный современный историк К. С. Ингерфлом приглашает к размышлению о возможности выхода из оппозиции «разрыва и преемственности» как естественных категорий, в которых историки осмысляют установления советской власти. Третий текст рубрики — перевод с латыни трактата Аделарда Батского «О тождественном и различном» ХI в. Его переводчик и комментатор Р. Шмараков подчеркивает одновременно ученость, оптимизм и легкость, с которыми античная традиция утверждала себя в Высоком Средневековье, повторяя «одно и то же» так, чтобы сообщение было лучше понято современниками. Заключительный текст номера иллюстрирует этот тезис. В своей увлекательной пост-метафизической рецензии на перевод книги Д. Тригга «Нечто: Феноменология ужаса» Д. Шалагинов приоткрывает возможность озвучить и услышать ужас от осознания немой и чужой первозданной плоти до разделения на (мой, наш, субъективный, умный) человеческий и (объективный, телесный) природный миры.
Тимур Атнашев, Михаил Велижев